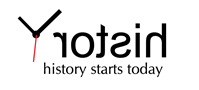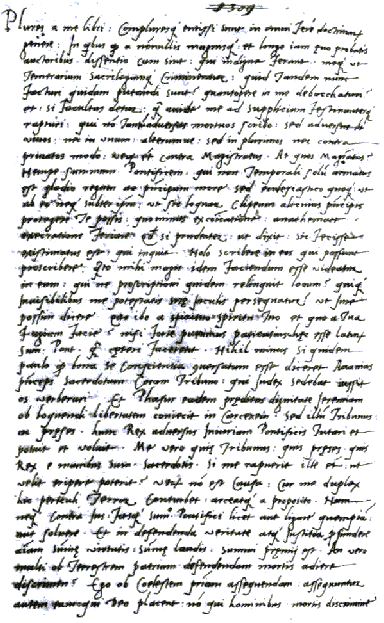Лоренцо Валла. Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты Константина
| Лоренцо Валла. Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты Константина |  |
Стр. 2 из 7
ЛОРЕНЦО ВАЛЛАРАССУЖДЕНИЕ О ПОДЛОЖНОСТИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ДАРСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ КОНСТАНТИНАМного, очень много обнародовал я книг почти по всем областям знания. В этих книгах2 я осмеливался выражать свое несогласие с мнением некоторых выдающихся писателей, чей авторитет был непререкаем в течение очень долгого времени. И я возбудил этим против себя негодование у немалого числа людей, которые ненавидят меня за это и называют наглецом и святотатцем. Подумать только, что будут делать эти люди теперь! Как будут они неистовствовать! И если им представится возможность, с какой жадностью схватят они меня и как поспешно повлекут меня на казнь. Ведь я выступаю не только против умерших, но и против живых, я выступаю не против какого-нибудь одного человека, но против многих, я выступаю не только против частных лиц, но и против лиц, облеченных властью. И какой властью! Я дерзаю выступать против верховного первосвященника3, который вооружен не одним лишь мирским мечом, как короли и князья, но и мечом церковным. От этого меча ни один государь не укроет тебя своим щитом, повсюду смогут настичь тебя отлучение, анафема, проклятие. А если разумно и говорил и действовал тот, кто сказал — «Я не хочу писать против тех, которые могут вписать меня в проскрипционный список»4,— то как уж следует мне остерегаться того человека, которому незачем даже прибегать к проскрипциям, который невидимыми стрелами своей власти сможет преследовать меня так неотступно, что мне останется только воскликнуть: «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу?»3. Но нельзя ли ожидать, что верховный первосвященник отнесется к этому терпимее, чем отнеслись бы другие люди? Ни в коем случае. Разве первосвященник Анания, 139
Однако ничто не может послужить причиной, чтобы двойной этот страх смутил меня и отвлек меня от моего замысла. Ибо верховному первосвященнику не позволено лишать свободы или освобождать кого-либо вопреки закону, и уж во всяком случае отдать свою жизнь в борьбе за истину и справедливость — это самый доблестный и славный поступок, достойный высшей награды. Сколь многие подвергали себя смертельной опасности, защищая свою земную родину? Неужели страх смерти остановит меня в моем стремлении достичь небесной родины (а достигают ее только те, которые угодны богу, а не те, которые угодны людям). Итак, пусть исчезнет трепет, пусть удалится страх, пусть пропадут опасения. С отвагой в душе, с твердой верой, с доброй надеждой я буду защищать дело истины, дело справедливости, дело бога! Истинным оратором следует считать того, который не только умеет хорошо говорить, но который к тому же осмеливается говорить. Осмелимся же предъявить обвинение тому человеку (кто бы он ни был), который совершает дела, заслуживающие обвинения. Пусть того, который виноват перед всеми, за всех осудит голос одного обвинителя. Быть может, я не должен порицать брата открыто; быть может, это следует делать с глазу на глаз?8 Но нет, согрешающего всенародно и не желающего слушать совета, данного наедине, «обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели»0. Разве Павел, слова которого я только что привел, не бросил перед всей церковью упреки прямо в лицо Петру, поскольку он заслужил их? Нам в поучение начертал Павел эти слова 10. Но я ведь не Павел, чтобы упрекать Петра. Нет, я Павел, если я подражаю Павлу. Больше того, с богом сливаюсь я духом, если ревностно выполняю его повеления. Высокое звание 140
Я не стремлюсь к тому, чтобы преследовать кого-нибудь и писать против кого-либо филиппики 14. Да не буду причастен я к такому делу! Я стремлюсь только к тому, чтобы удалить из умов людских тяжкие заблуждения, чтобы с помощью советов или упреков отвратить людей от пороков и преступлений. Я не осмелился бы сказать, что цель моя заключается в том, чтобы другие люди, узнав от меня истину, железом подрезали лозы, буйно разросшиеся вокруг Христова виноградника — папского престола,— и заставили его приносить не тощие дички, а полные гроздья. А если я и делаю это, то разве найдется такой человек, который захочет закрыть либо мне уста, либо себе уши или даже сочтет меня заслуживающим смертной казни? И если такой человек найдется, как должен буду я назвать его, даже если он окажется папой, добрым ли пастырем или глухой змеей, которая не хочет слушать голос заклинателя, а стремится отравить его тело своим ядовитым укусом. Я знаю, что люди давно уже желают услышать, какое же обвинение предъявляю я римским папам. Я предъявляю им тяжкое обвинение, я обвиняю их либо в беспечном невежестве, либо в чудовищной алчности, которая является идолопоклонством, либо в суетном стремлении к власти, которому постоянно сопутствует жестокость. Ибо уже в течение нескольких веков они либо не понимали, что Константинов дар — это подлог, либо сами этот подлог создавали, либо, следуя по стопам своих предшественников, защищали истинность этого дара, о подложности которого они хорошо знали. И этим они бесчестили величие первосвященства, бесчестили память древних пап, бесчестили христианскую веру и все смешивали с убийством, с разрушением и преступлениями. Они утверждают, что город Рим — это их собственность, что им принадлежит королевство Сицилии и Неаполя15, им принадлежит вся Италия, Галлии и Испании, германцы и британцы, им вообще принадлежит весь Запад, ибо все 141
А я, напротив, считаю, что будет справедливее позволить князьям лишить тебя всей власти, которой ты обладаешь. Ибо, как я покажу, о том самом даре, которым верховные первосвященники обосновывают свои права, ничего не было известно ни Сильвестру16, ни Константину 17. Однако прежде, чем я перейду к опровержению дарственной грамоты, которая служит единственным оправданием их притязаний,— оправданием не только ложным, но и нелепым,— я должен, дабы все шло по порядку, начать издалека. И, во-первых, я покажу, что Константин не был таким человеком, который бы хотел даровать, который бы имел право даровать, который бы обладал над всем этим достаточной властью, чтобы передать это в руки другого. Я покажу также, что Сильвестр не был таким человеком, который хотел бы это принять, который имел бы право это принять. Во-вторых, даже если бы это было и не так, хотя все это совершенно неоспоримо и очевидно, то все же, как я покажу, Сильвестр не получал, а Константин не передавал власти над теми владениями, о которых говорят, будто они были отданы в дар, и владения эти постоянно оставались под властью цезарей 18 и в их империи. В-третьих, я покажу, что Константин ничего не дарил Сильвестру и что дары, которые получил от него предшественник Сильвестра (а Константин принял крещение еще до него), были незначительны и предназначались лишь для того, чтобы доставить папе средства к существованию. В-четвертых, я докажу неправоту тех, которые утверждают, будто изложение дарственной грамоты можно найти в «Декрете» 19 или будто оно извлечено из «Истории Сильвестра»20. Изложение дарственной грамоты нельзя обнаружить ни в этой, ни в какой-либо другой истории, в нем содержится очень много противоречивого, невероятного, нелепого, варварского и смехотворного. Затем я расскажу о мнимых или же до смешного ничтожных дарах некоторых-других цезарей. Сверх того, я покажу, что если бы даже Сильвестр и владел всем этим, то все же поскольку он 142
Итак, обратимся к первой части нашего изложения и расскажем сначала о Константине, а затем о Сильвестре. Нельзя допустить, чтобы о деле общественном и как бы цезаревом мы говорили не более торжественным тоном, чем об обычном частном деле. Итак, представлю себе, что я говорю в собрании королей и князей (ведь я в действительности так и поступаю, ибо эта моя речь попадет к ним в руки) 21, обращусь к этим высоким лицам так, как если бы они присутствовали здесь и я видел их перед своим взором. К, вам обращаюсь я, короли и князья, ибо мне, частному человеку, трудно составить себе представление о том, каков может быть дух государя, я хочу понять ваш образ мысли, хочу постичь вашу душу, прошу вашего свидетельства. Неужели кто-нибудь из вас, если бы оказался вдруг на месте Константина, счел бы себя обязанным даровать другому человеку город Рим, свою родину, столицу всего мира, царя государств, самый могущественный, самый знатный и самый богатый город среди всех, победителя народов, город священный уже одним своим обликом; неужели кто-нибудь счел бы себя должным просто из великодушия отдать другому этот город, а самому затем отправиться в ничтожный город Византий? И вместе с Римом отдать Италию, не провинцию, а владычицу провинций, отдать три Галлии, отдать две Испании, отдать германцев, отдать британцев, отдать весь Запад и лишить себя одного из двух глаз империи? Я не могу поверить, что кто-нибудь сделает это, будучи в здравом уме. Разве может быть для вас что-нибудь более желанным, более приятным, более сладостным, нежели присоединение новых земель к вашим империям и королевствам, нежели распространение вашей власти вширь и вдаль, насколько это только возможно? Этому, как мне кажется, вы посвящаете все свои заботы, все размышления, все труды, денные и нощные. Именно с этим 143
И если люди с такой страстью стремятся к достижению власти, со сколь большей страстью должны они стремиться к сохранению ее. Не расширить империи еще не так постыдно, как уменьшить ее; не присоединить к своим владениям королевство другого государя еще не так для тебя позорно, как позволить другому присоединить к своим владениям твое королевство. Иногда мы 144
Автограф первой страницы «Рассуждения о подложности так называемой Дарственной грамоты Константина» Лоренцо Валлы Рим Ватиканская библиотека. Codex Vaticanus, Tatinus, 5314
Теперь я спрашиваю, разве не вызывают гнева и презрения те люди, которые утверждают, что Константин лишил себя лучшей части своей империи? Я не говорю уже ничего о Риме, Италии и всем прочем, скажу только о Галлиях, где он предводительствовал в сражениях, где он долгое время был единственным господином, где он заложил основу своей славы и своей власти. Человека, который ради достижения власти вел войну с народами, который выступил в гражданской войне против друзей и родственников и отнял у них владения, которому приходилось бороться с еще непокоренными и несломленными остатками враждебной ему партии, который вел войны со многими народами не только из стремления к славе и к власти, но и в силу необходимости, ибо его постоянно тревожили варвары; человека, у которого было много сыновей, родственников и друзей, который понимал, что вызовет своим поступком недовольство Римского сената и народа, который знал о непостоянстве покоренных народов, поднимавших мятеж почти всякий раз, когда в Риме сменялся государь, который помнил, что подобно другим цезарям он получил власть не благодаря избранию в сенате и одобрению народа, а благодаря войску, оружию, войне,— какая же причина оказалась столь веской и настоятельной, чтобы побудить такого человека пренебречь всем этим и проявить столь безмерную щедрость? Говорят, это произошло потому, что он стал христианином. Так вот почему он отказался от лучшей части своей империи? Значит, быть царем стало уже преступным, гнусным и нечестивым делом, несовместимым с христианской верой. Те, которые живут в блуде, те, которые разбогатели благодаря ростовщичеству, те, которые владеют чужим,— все эти люди после крещения обычно отдают чужую жену, чужие деньги, чужое добро. Если ты, Константин, думаешь об этом, то ты должен вернуть городам их вольность23, а не менять им 145
Но Константин был исцелен от проказы. Поэтому вполне вероятно, что он хотел воздать благодарность и воздать ее сторицей. Не так ли? Нееман-сириец, исцеленный Елисеем 26, пожелал преподнести только дары, а не половину своего имущества. А Константин преподнес бы половину империи? Мне крайне досадно, что я, будто достоверному рассказу, уделяю внимание этой бесстыдной выдумке, этой истории об исцелении от проказы. Она представляет собой не что иное, как подражание истории Неемана и Елисея, подобно тому как история о драконе 27 выдумана в подражание легенде о драконе Вила28. Не буду, однако, спорить о достоверности этой истории, спрошу только, есть ли в ней какое-нибудь упоминание о даре? Нет, никакого. Но об этом уместнее будет говорить позднее. Итак, он был исцелен от проказы? Из-за этого он проникся христианским образом мысли и, преисполнен- 146
Даже если бы он и стал таким, даже если бы он словно превратился в другого человека, все же нашлись бы люди, которые сумели бы его отговорить, и прежде всего сыновья, близкие, друзья. Можно ли сомневаться в том, что они сразу же обратились бы к императору? Итак, представьте их перед своим взором; они уже услышали о намерении Константина, с трепетной поспешностью припадают они, стеная и плача, к коленям государя и обращаются к нему со словами: «Неужели ты, который прежде был столь любящим отцом, теперь лишишь своих сыновей наследства, разоришь и отвергнешь их? То, что ты намерен отказаться от лучшей и наибольшей части империи — это удивляет нас, но не на это мы жалуемся. Мы жалуемся на то, что ты передаешь ее чужим людям, ведь тем самым ты наносишь нам ущерб и позоришь нас. Какая причина побудила тебя лишить своих детей империи — ожидаемого наследства,— тебя, который некогда правил совместно со своим отцом? Чем мы провинились перед тобой? 147
Мы, твои близкие, мы, твои друзья, столько раз мы вместе с тобой стояли в боевом строю, мы видели предсмертные муки своих братьев, родителей, сыновей, пронзенных вражеским мечом, но нас не устрашила смерть других, мы и сами готовы принять смерть ради тебя. Почему же ты теперь покидаешь нас всех? Неужели всех нас, исполняющих государственные должности в Риме, возглавляющих или предназначенных к тому, чтобы возглавить города Италии, области Галлий, Испаний и другие провинции, неужели теперь ты отзываешь всех нас? Неужели ты приказываешь нам стать частными людьми? Или ты собираешься возместить нам эту потерю чем-нибудь другим? Ню сможешь ли ты это сделать в соответствии с нашими заслугами и нашим положением теперь, когда ты отдал другому столь большую часть мира? Неужели того, который стоял во главе сотни народов, ты цезарь, поставишь теперь во главе одного народа? Как могло тебе это прийти на ум? Неужели тебе не жаль твоих друзей, твоих родных, твоих сыновей? Лучше уж было нам, цезарь, погибнуть на войне, сражаясь за твою честь и победу, чем узнать такое! Ты, конечно, можешь и со своей империей и даже с нами поступать по своему усмотрению, «о над одним ты не властен, и в этом мы будем упорны вплоть до нашей смерти. Мы не отступимся от почитания бессмертных богов, и эта наша преданность богам послужит примером для многих других. Тогда-то ты поймешь, какую услугу оказала твоя щедрость христианской вере. Ибо если ты не отдаешь империю Сильвестру, то мы будем христианами вместе с тобой, и многие последуют нашему примеру; если же ты отдаешь, то мы не только не согласимся стать христианами, но самое это имя будет для нас проклятым, ненавистным, отвратительным. Ты сделаешь нас настолько несчастными, что в конце концов 148
Неужели Константин (если только не считать, что он был вовсе лишен человечности) не был бы тронут этой речью, пусть даже собственные размышления не побудили его отказаться от своего замысла? А если бы он не пожелал выслушать своих близких, то разве не нашлось бы других людей, которые бы стали препятствовать его намерению и словом и делом? Неужели сенат и народ римский сочли бы возможным бездействовать в таком деле? Неужели они не призвали бы оратора, «выдающегося по своей справедливости и своим заслугам»,— как говорит Вергилий32, который бы произнес перед Константином такую речь: «Цезарь, если ты забыл о своих близких и даже о себе самом, если ты больше не заботишься о наследстве для сыновей, о богатстве для родных, о почестях для друзей, если ты не стремишься более сохранить в неприкосновенности свою империю, то сенат и народ римский не могут забыть о своих правах :и о своем достоинстве. На каком основании ты позволяешь себе так обращаться с Римской империей, которая создана не твоей, а нашей кровью? Ты собираешься рассечь одно тело на две части, из одного царства сделать два царства, две головы, две воли, ты как бы протягиваешь двум братьям мечи, дабы они сражались друг против друга за наследство. Городам, которые имеют заслуги перед Римом, мы даем право гражданства, их жителям — право называться римскими гражданами, ты же отнимаешь у нас половину империи и все эти города не будут более признавать Рим своим отцом. Если в пчелином улье рождается два царя, то одного из них, который похуже, убивают; ты же хочешь в улье Римской империи, где до сих пор был один и прекраснейший государь, поместить второго и худшего, притом даже не царя, а трутня. Мы умоляем тебя, император, будь благоразумен. Подумай только, что произойдет, если при твоей жизни или после твоей смерти варварские народы совершат нападение на ту часть империи, которую ты отдаешь, «ли на ту часть, которую оставляешь себе? С помощью каких войск, с помощью каких средств дадим мы им отпор? Даже сейчас, когда мы используем мощь всей 149
Скажи-ка, неужели ты думаешь, что кто-нибудь отсюда захочет или сможет оказать тебе помощь, когда ты будешь вести войну? Те, которые будут здесь предводителями войска и городов, будут так же далеки от оружия и от всякого ратного дела, как и тот, кто сделает их предводителями. Кроме того, разве не попытаются римские легионы или сами провинции лишить власти этого человека, столь неопытного в деле управления и легко уязвимого, ведь они будут надеяться на то, что он либо не окажет им сопротивления, либо не станет их наказывать. Клянусь Геркулесом 35, я думаю, что и месяца не останутся они в повиновении, а сразу же при первом известии о твоем отъезде поднимут мятеж. Что ты тогда сделаешь? Какое примешь решение, когда с двух или даже со всех сторон на тебя будут наступать вражеские войска? Народы, которые мы покорили, мы едва можем сдержать. Как окажем мы им сопротивление, если нам придется сражаться и со свободными народами? 150
Если бы, цезарь, мы выбрали тебя царем, ты имел бы большую власть над римской империей, но и тогда бы тебе не было позволено даже на самую малую долю ослабить ее могущество, ведь в этом случае мы, сделавшие тебя царем, с тем же правом приказали бы тебе отречься от царства. Я не говорю о том, что тебе бы никто не позволил делить царство, лишать его стольких провинций или отдавать его столицу человеку чужому и ничтожному. Мы ставим пса во главе овчарни, «о, если он начинает вести себя как волк, мы выбрасываем его или убиваем. Неужели ты, который так долго, защищая нас, служил псом в римской овчарне, теперь столь беспримерным образом превратишься в волка? Но ты должен знать (ты сам вынуждаешь нас говорить резко, ведь мы боремся за свои права), ты должен 151
Поэтому, цезарь (мы не собираемся скрывать от тебя наш образ мыслей), если тебе не угодно сохранить власть над Римом, то ты имеешь сыновей, одного из которых ты мог бы по закону природы назначить взамен себя с нашего согласия и одобрения. В противном случае мы намереваемся защищать честь нашего государства и наше личное достоинство. Несправедливость, которую ты собираешься сотворить по отношению к квиритам 39, не меньше той, которая некогда была совершена насилием над Лукрецией. И у нас появится Брут, который поведет народ против Тарквиния, чтобы вновь завоевать свободу40. Сначала против твоих ставленников, а потом и против тебя самого мы обнажим меч, .который мы обнажали против многих императоров, имея на то даже менее веские причины». Совершенно несомненно, что эта речь глубоко взволновала бы Константина, если только не считать его камнем или деревом. И если бы даже народ не сказал этого прямо ему в глаза, тем не менее было бы понятно, что люди говорят это друг другу и выражают свое негодование повсюду именно в этих словах. Пойдем теперь дальше и скажем, что Константин хотел угодить Сильвестру. Но тем самым Константин навлек бы «а него ненависть стольких людей, он подставил бы его под столько мечей, что Сильвестр, как я думаю, не прожил бы и дня после этого. Ибо люди считали бы, что, уничтожив Сильвестра и немногих других, они освободят души римлян от боли, причиняемой столь жестокой несправедливостью и обидой. Продолжим дальше и допустим (если это только возможно), что «и мольбы, ни угрозы, ни разумные доводы не привели ни к какому результату, что Константин по-прежнему упорствует и не хочет отступиться от однажды 152
«Превосходнейший государь и сын, цезарь, я высоко ценю твое благочестие, столь безмерное и самоуничижительное, и меня не очень удивляет, что ты несколько ошибаешься в том, какие дары следует выбирать для бога и какие жертвы следует ему приносить; ведь ты все еще новобранец в воинстве Христовом. Подобно тому, как некогда священнослужитель мог принести в жертву не всякое животное, не всякого зверя, we всякую птицу, точно так же и не всякий дар может быть принят. Я священник и понтифик41, и я должен следить за тем, что подносят к алтарю, дабы к алтарю не поднесли какое-нибудь нечистое животное, а то, может быть, и змею. Ты должен знать это. Если бы ты имел право передать часть империи с царем мира Римом какому-нибудь человеку, кроме своих сыновей (а я думаю, что у тебя нет такого права), если бы наш народ, если бы Италия и другие племена согласились подчиниться власти тех, кого они ненавидят и чью религию они, привлеченные мирскими соблазнами, все еще презирают (а это невозможно), тем не менее, если бы ты что-нибудь захотел мне подарить, мой возлюбленный сын, никакие доводы не склонили бы меня принять твой дар, разве что я пожелал бы быть непохожим на себя самого, забыть свое положение и чуть ли не отречься от господа Иисуса. Ибо твой дар или, как ты говоришь, твое воздаяние запятнает и даже вовсе погубит честь, чистоту и непорочность мою и всех моих преемников; твой дар преградит дорогу тем, которые будут стремиться к познанию истины Елисей, исцелив от проказы Неемана-сирийца, отказался принять вознаграждение, а я, исцелив тебя, приму? Он отверг дары, а я позволю, чтобы мне подарили царства? Он не захотел запятнать в себе пророка, а я посмею запятнать Христа, которого ношу в себе? Почему же он считал, что эти дары могут запятнать пророка? Несомненно, потому, что он не хотел, чтобы показалось, будто он продает святыни, отдает в рост дар божий, нуждается в покровительстве людей, уменьшает и принижает ценность благодеяния. Он предпочитал сам творить благодеяния князьям и царям, чем быть облагоде- 153
Неужели, цезарь, я должен буду подать дурной пример и послужить причиной дурных поступков других людей, я, христианин, священник божий, римский понтифик, наместник Христов? Разве сумеют священники сохранить свою чистоту незапятнанной, если они станут владеть богатствами, занимать государственные должности, управлять мирскими делами? Для того ли мы отказываемся от мирских благ, чтобы получить их еще большею мерою? Для того ли мы отвергли личную собственность, чтобы завладеть чужим и общественным? Нашими будут города? Нашими будут подати? Нашими будут пошлины? Можно ли будет называть нас клириками, если мы так поступим? Удел наш или жребий наш (что по-гречески называется κλήρος46) не земной, а небесный. Левиты (а ведь они тоже клирики) не участвовали в дележе имущества совместно с братьями47, а ты приказываешь нам» присвоить себе даже долю братьев. Зачем мне имущество и богатство, если голос бога приказывает мне не заботиться о завтрашнем дне48, если бог говорит мне: „Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои» и еще — „Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство божие» 49. И поэтому он выбирал себе помощниками бедняков и тех людей, которые оставляли все свое имущество, чтобы следовать за ним, и сам он был примером бедности. Не только тогда, когда мы владеем деньгами и являемся хозяевами богатств, но даже и тогда, когда мы держим деньги и богатства в своих руках, подвергаем мы искушению свою непорочность. Один 154 |
||||||||||